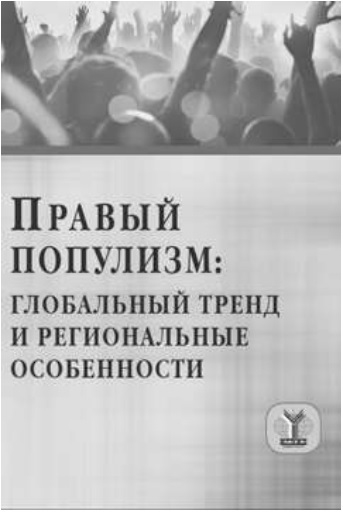- PII
- S268667300017542-6-1
- DOI
- 10.31857/S268667300017542-6
- Publication type
- Article
- Status
- Published
- Authors
- Volume/ Edition
- Volume / Issue 12
- Pages
- 76-85
- Abstract
Right-wing populism, which broke into the political processes of many countries of the Old and New Worlds in the first quarter of the 21st century, is the subject of research by historians, political scientists, specialists in the field of international relations. The increased attention to this phenomenon is largely due to its impressive electoral achievements, as well as the synchronicity of its ascending impulses specific to different regions. Being a concentrated political response to the challenges of globalization, it draws many of its slogans, tactics and methods of public manifestation from the historical traditions of its countries. The book, published in the MGIMO University Publishing House, is devoted to the correlation of global characteristics and regional manifestations, modern technologies and traditional lines of action in the programs and methods of political behavior of right-wing populist parties and movements of most European and American states; the materials and conclusions of this book are considered in the article against the background of modern publications on this topic, which appeared almost simultaneously. Special attention is paid to the North American case of right-wing populism, which has become famous due to the ideas, actions and the political legacy of President Donald Trump. It is noted that the chapter devoted to the traditions and modern features of populism in the United States is a core one for the entire monograph, since it clearly outlines the connections and specific differences between European and American populism, identifies the bonds of traditional forms of populist behavior with modern methods of using mass negative moods and prejudices in order to organize another "crusade" of the "deep people" against the "deep state". It is concluded that the content of the cases presented in the monograph helps to realize the relevance of studying the spectra of Western political life bordering on right-wing populism – political radicalism (both right and left) and extremism, on the one hand, and classical conservatism, on the other.
- Keywords
- Right-wing populism, Trumpism, nationalism, anti-elitism, reaction to globalization, regional peculiarities, political processes
- Date of publication
- 03.12.2021
- Year of publication
- 2021
- Number of purchasers
- 14
- Views
- 1136
Ещё недавно триумф либерального миропорядка казался полным и необратимым, а национализм, в первую очередь европейский, объявлялся «не серьёзной» затеей [Харари Ю.Н. 2019], тем не менее события последнего десятилетия в очередной раз показали, что прогнозы – дело неблагодарное и история не благоволит к линейным сценариям.
Мир становится всё менее структурированным, а политическая среда теряет привычную упорядоченность. На этом фоне всё чаще звучат политические прокламации, корректирующие глобальную и национальные повестки жизни и способные посредством СМИ, интернета и социальных сетей мобилизовать многомиллионные аудитории в государствах как Старого, так и Нового Света. Общественно политический дискурс большинства стран Европы и Америки реагирует на социально-экономические изменения с учётом местных условий и с разной скоростью. Наличие однотипных проблем часто порождает сопоставимые политические явления. Одним из них является правый популизм, масштабно заявивший о себе в последние годы разнообразием национальных проявлений, побуждающих к сравнениям, типологизации, поиску исторических корней и уникальных характеристик.
Вышедшая в свет в издательстве МГИМО-Университета монография (под ред. Л.С. Окуневой, А.И. Тэвдоя-Бурмули) представляет собой панорамный взгляд на основные течения и вехи развития правого популизма с преимущественной фокусировкой на событиях XXI века. Основу авторского коллектива составили учёные из МГИМО МИД России, Высшей школы экономики, Института Европы РАН, Воронежского Государственного университета.
В монографии 18 глав. Имеются содержательные Предисловие, Введение и Послесловие. Наряду с разделами, освещающими специфику национальных разновидностей правого популизма, в книгу включены главы, в сравнительном ключе препарирующие горизонтальные срезы этого феномена, в которых, в частности, рассмотрены соотношение правого популизма и «нового антисемитизма», а также когнитивные факторы усиления антиглобалистских настроений праворадикальных избирателей в современной Европе. Принимая во внимание широкий спектр описываемых в монографии моделей правого популизма и сложности сопоставления, хотя и родственных, но всё же пронизанных разными политическими культурами сценариев развития популистских партий, включение в структуру таких глав представляется не лишней.
Редакторы позаботились о том, чтобы максимально облегчить восприятие читателем логики и содержания тома. В развёрнутых Предисловии (А.И. Тэвдой-Бурмули) и Введении (П.В. Осколков) конкретизированы базовые дефиниции исследования, охарактеризован историографический бэкграунд, а также разъяснены его концептуальные параметры. Свою задачу они видят в том, «чтобы дать возможно более широкую палитру страновой эмпирики правопопулистского феномена, встроив его в релевантную объяснительную парадигму современных теоретических подходов к данной проблематике» (с.6-7). Внимательное прочтение этого труда приводит к заключению, что поставленная задача успешно решена.
В политической науке термин «популизм» имеет множество трактовок. Современные исследователи справедливо называют его «сложным, концептуально неопределённым, но при этом широко употребляемым термином», который «вследствие политизации приобрёл политическую коннотацию». Отмечается, что в многочисленных публикациях «спектр оценок популизма колеблется от угрозы либеральной демократии до его определения как политического мейнстрима гегелевским термином “дух времени”» [Шапаров А., Синькова Е. 2020: 183]. Авторы монографии осознают многозначность, изменчивость и многомерность данного явления, поэтому определяют его во Введении и делают это в предельно широких терминах: «Мы сами полагаем понимать популизм (именно правый) как политическую стратегию, сочетающую национализм, антиэлитизм, антиплюрализм (проявляющийся в представлении о народе как о гомогенной группе и стремлении исключить «нарушителей» гомогенности) и самоотождествлении с народной волей, направленную на достижение электоральных успехов» (c.13-14). Важно отметить, что в данном случае речь идёт не о единичной презентации дефиниции, предложенной «по случаю» в качестве удобного рамочного формата для коллективного труда. Данное определение уже прошло апробацию и с незначительными модификациями воспроизводится авторами в работах схожей тематики на протяжении нескольких лет, что позволяет говорить о вкладе в методологию сравнительного политического анализа популизма как такового, особенно в части его концептуализации и типологии [Осколков П.В., Тэвдай-Бурмули А.И. 2018]; [Осколков П.В. 2020].
Следует отметить, что не все авторы строго придерживаются предложенной дефиниции – эмпирику политических процессов различных стран и регионов далеко не всегда можно дисциплинировать в точном соответствии с предложенным определением. В этих случаях у читателя есть возможность соотнести базовый подход с той или иной региональной модификацией правого популизма, тем самым сохранив целостность восприятия данного труда. Хотя в отдельных случаях авторам и редакторам все же не удалось избежать повторов (c. 56, 75, 141, 168-169) в изложении подходов к определению популизма, вряд ли уместных в исследовании, претендующем на внутреннюю цельность и непротиворечивость.
Раздел, посвящённый состоянию правого популизма в Европе, наиболее обширен, он охватывает большинство стран Западной, Центральной, Восточной Европы (за исключением Венгрии и Польши), Скандинавии, Балтии и Балкан. Разнообразие и взаимовлияние популистских партий, движений и локальных манифестаций в Старом Свете отчасти объясняется традициями политической жизни отдельных государств. В то же время, как справедливо отмечают авторы отдельных глав, некоторые из наиболее ярких его характеристик навеяны реалиями глобализации и европейской интеграции (с. 58-59, 135, 143, 198, 271), социальным расслоением и «сокращением гражданской середины» (с. 63, 87-88, 102, 280), эрозией системных партий (с. 64, 180, 266), наплывом иммигрантов и неприятием «других» (c. 142, 167, 186).
Внимание к европейским вариантам правого популизма вполне закономерно. Недавнее исследование Института глобальных изменений показало, что большинство популистских партий в Европе принадлежит к правому крылу: 72 из 102 в программных документах определяют себя как правых популистов» [Хахалкина Е.В., Андреев К.П., Мунько К.В. 2020: 103].
Смысловыми доминантами европейского раздела монографии являются главы, посвящённые Германии (С.И. Дмитриева, С.В. Погорельская), Великобритании (Н.К. Капитонова) и Франции (И.Э. Магадеев). Отчасти это оправдано тем, что на фоне всеобщего роста спроса на традиционные ценности и разумный консерватизм, в общественно-политической жизни трёх названых западноевропейских государств оформились уникальные варианты национальных ответов на общеевропейский интеграционный вызов в виде британского Брексита, движения французских «жёлтых жилетов» и электоральных достижений партии «Альтернатива для Германии». В то же время, активность правопопулистских сил в этих странах демонстрирует, что традиционные политические образования европейского истеблишмента (христианские демократы, консерваторы, социал-демократы, либералы) ослабили свои позиции на электоральном поле многих государств Старого Света. На фактах истории большинства упомянутых в монографии европейских стран показано, что привычные формы коалиционного сотрудничества между системными партиями далеко не всегда «позволяют решать текущие и перспективные проблемы отдельных стран – членов ЕС и Европы в целом [Осколков П.В., Тэвдай-Бурмули А.И. 2018]; [Осколков П.В. 2020]; [Коалиционные правительства …., 2020: 8].
Принимая во внимание масштабы националистических, антиэлитарных и антиэтатистских настроений в большинстве европейских стран, а также электоральные достижения партий и движений, выступающих под этими лозунгами, будущее Европейского Союза отнюдь не кажется беспроблемным (с. 394).
Своеобразным украшением книги стала глава об особенностях правого популизма в Бразилии в XXI веке и его отголосках в других латиноамериканских странах. Автору Л.С. Окуневой удалось мастерски показать, как опыт латиноамериканских государств синтезирует правопопулистские тренды Запада с собственными колоритными проявлениями политических предложений правящих элит и эмоциональных пристрастий (или антипатий) массового общества (c. 365-367). С учётом того, что в главе представлен богатый материал о националистических «клонах» бразильского лидера Ж. Болсонару из Боливии (с. 374), Аргентины (с. 376), Чили (с. З76), Парагвая (с. 378), Уругвая (с. 378), Сальвадора (с. 378-379), Гватемалы (с. 379), можно c высокой долей вероятности предположить, что этот материал может оформиться в самостоятельное монографическое исследование, где наряду с правопопулистским контентом равноправно будет представлен более широкий спектр латиноамериканских политических партий и движений.
Мощная популистская волна, всколыхнувшая Соединённые Штаты Америки во втором десятилетии текущего века, также способствовала поддержке глобального популистского импульса. И хотя экватор популистского наступления в этой стране в настоящий момент кажется пройденным, его амплитуда продолжает оставаться высокой. «На рубеже второго–третьего десятилетий, – отмечает Л.Ф. Лебедева, – в Соединённых Штатах расколотыми остаются и политическая элита страны, и американское общество, в том числе в оценке государственных программ» [Лебедева Л.Ф. 2020: 5]. Остаётся вопрос, в каком направлении двинется политическая эволюция США на этот раз. Богатую пищу для размышлений на эту тему даёт глава о связи современного состояния Соединённых Штатов Америки с их традициями, подготовленная В.О. Печатновым и развивающая, а во многом и обобщающая его более ранние исследования на эту тему [Печатнов В. 2017]; [Печатнов В.О. 2020]; [Печатнов В.О., Печатнов В.B. 2018].
Взлёт правого популизма в Соединённых Штатах справедливо связывается с неординарной фигурой 45-го президента Дональда Трампа. Автор главы показывает, что связь эта детерминируется множеством факторов. Восхождение к власти этого лидера для многих было неожиданностью, а масштабы наследия его управления страной, очевидно, ещё предстоит оценить. Трамп – не первый, кто вошёл в политическую жизнь США с правопопулистскими лозунгами, но в отличие от своих прямых предшественников, среди которых обычно называют Х. Лонга, Б. Голдуотера, Дж. Маккарти и Дж. Уоллеса, он стал президентом и находился у власти в течение четырёх лет. За это время ему удалось заметно повлиять на политическую повестку страны и перефокусировать внимание электората с темы «нового мирового порядка», на проблематику «наведения порядка в стране», и в этом смысле ему удалось достичь больше, чем кому бы то ни было из предшественников.
Трампизм как исторический феномен своим появлением во многом обязан глубокому системному кризису, в течение нескольких десятилетий последовательно захватывавшему важные сегменты жизни американского общества, существенно изменившему социальную структуру страны, расколовшему гражданское общество по важным мировоззренческим вопросам, скорректировавшему отношение людей к базовым ценностям «американского кредо» – конституционализму, правлению закона, гражданскому равенству (c.285-289). Сам способ его проявления чаще всего объясняют «несистемностью» 45-го президента Соединённых Штатов. В связи с этим возникает вопрос о критериях «системности» государственного деятеля в такой стране как США. Реагируя на кризис и включая мероприятия по его преодолению в список своих актуальных задач, он действовал почти так же, как другие президенты-прагматики. Публично нападая на оппозиционную прессу и элиты, он вполне успешно удовлетворял общественный запрос на авторитарного лидера, а появление лидеров такого типа не такая уж большая редкость в истории США.
В.О. Печатнов детально показывает, что трампизм, при всей его спонтанности, наглядно демонстрирует, как в современном мире может разворачиваться запуск самоидентификации массового общественно-политического движения, когда в течение непродолжительного отрезка времени происходит сущностная (проблематика и актуальная политическая повестка), организационная (отношение к действующим законам, правилам, регламентам) и социокультурная (ценности) самоидентификация участников движения и мобилизация значительной части электората. В этом отношении данная глава является системообразующей для всей монографии, в ней четко прописаны связи и видовые отличия европейского и американского популизма, обозначены скрепы традиционных форм популистского поведения с современными методами использования массовых негативных настроений и предрассудков с целью организации очередного «крестового похода» «глубинного народа» против «глубинного государства».
Коль скоро популизм как отклик на традиции американской демократии глубоко укоренён в сознании американцев, а его современная модификация –трампизм – порождена реалиями текущего кризиса, то развилка для продолжения траектории его исторического пути представляется вполне очевидной: либо сменившей республиканскую администрацию команде президента Дж. Байдена придётся выполнить часть повестки Трампа, тем самым «высушить болото трампизма» и в очередной раз продемонстрировать способность американской демократии справляться с национальными и глобальными вызовами, либо правый популизм, с Трампом или без него, будет «продолжать дестабилизировать партийно-политический ландшафт США» (c. 309).
Североамериканский блок дополняет глава об особенностях внешней политики Трампа, написанная Л.М. Сокольщиком. Отталкиваясь от тезиса о концептуальной фрагментарности трампизма (c. 316), автор, несколько противореча себе, акцентирует его враждебность идее либерального миропорядка, которому противопоставляет изоляционизм, унилатерализм, государственный суверенитет и экономический протекционизм. На этом основании внешнеполитическая программа Трампа оценивается как палеоконсерватизм в духе «отказа от имперской политики в пользу изоляционизма» (c. 322, 325). В данной связи следует заметить, что взгляды президента Д. Трампа на международные отношения и внешнеполитический курс его администрации и в России, и в США эксперты, как правило, трактуют не столь однозначно. Отмечалось, например, что «наиболее продвинутые глобалисты – и политические деятели, и эксперты, и финансисты, в частности Дж. Сорос и Ч. Кох, принадлежащие к противоположным сегментам политического спектра, начали осознавать, что политика Трампа “Америка прежде всего” пользуется мощной поддержкой белого большинства американцев и за ней будущее» [Самуйлов С.М. 2020].
Несколько обособленное место в монографии занимает очерк А.В. Крыжановского о месте гендерной проблематики в дискурсе новых религиозных правых США (с. 393-391). Хотя сами по себе религиозные правые деноминации и общины не формируют самостоятельного движения внутри популизма, они имеют влияние на электорат и традиционно считаются «держателями» религиозно-мировоззренческих констант американизма и нативизма. Как справедливо отмечено Тэвдоем-Бурмули, включение этого сюжета позволяет раздвинуть пространственно-временные рамки исследования, придав ему необходимую для корректного анализа многомерность (c. 9). Нарратив такого рода по праву вплетён в общую канву правопопулистской проблематики, поскольку в нём преломляются очень важные грани современных мировоззренческих сдвигов и ценностных деформаций не только американского, но и западного общества в целом. Остаётся добавить, что в более широком контексте эта часть собственно американского правопопулистского дискурса затрагивалась в работах российских исследователей, в том числе и причастных к созданию рецензируемого тома [Печатнов В.В.2017]; [Печатнов В.О., Печатнов В.В. 2018]. Коллективный труд, вышедший в МГИМО-Университете, наметил контуры дальнейших исследований по затронутой проблеме. Хотя, как отмечают идеологи этого издания, «популизм позиционирует себя в качестве органического элемента политической системы и стремится прийти к власти, привлекая электорат в рамках сложившихся демократических процедур» [Осколков П.В. 2019: 13]; [Тэвдой-Бурмули А.И. 2018: 35-36], содержание представленных кейсов подводит к осознанию целесообразности изучения пограничных с правым популизмом спектров политической жизни Запада – политического радикализма (как правого, так и левого) и экстремизма, с одной стороны, и классического консерватизма – с другой [Шакиров А., Синькова Е. 2020, 5: 184. История последних десятилетий свидетельствует о том, что грань между программами и политическим поведением этих сил становится всё мнее осязаемой.
К сожалению, на страницах книги не нашли отражения правопопулистские проявления в Канаде и в современной России, опыт которых представляется важным для полновесного компаративного анализа. Впрочем, в случае исследования этого феномена на российском материале, данный труд содержит немало содержательных и методологических позиций, которые могут быть востребованы.
References
- 1. Harari Yuval Noah. 2019. 21 urok dlya XXI veka [21 Lessons for the 21st Century] (In Russ., translated from English). Moscow, Sindbad. 416 p.
- 2. Khakhalkina E.V., Andreev K.P., Munko A.V. 2020. Novoe litso Evrosoyuza: fenomen pravogo populizma na primere otdel'nykh stran ES [New Face of European Union: Right-Wing Populism in the EU-Countries] (in Russ.). MGIMO Review of International Relations, No.6. p. 99-132. DOI: 10.24833/2071-8160-2020-6-75-99-132
- 3. Schweitzer V.Ya. et al. 2020. Koalitsionnye pravitel'stva v sovremennoy Evrope: shansy i riski: monografiya [Coalition Governments in Contemporary Europe: chances and risks] (In Russ.). Moscow, Institute of Europe, 136 p. DOI: 10.15211/report72020_374
- 4. Lebedeva L.F. 2020. Social Guidelines of Trump's Presidency and the Public Opinion // USA & Canada: economics, politics, culture.; No. 6, p. 5-19. DOI: 10.31857/S268667300009767-3
- 5. Oskolkov P.V. 2020. Populizm i korona: kak pandemiya vliyaet na pravopo-pulistskie partii Evropy? [Populism and the Corona: how does the pandemic affect the right-wing populist parties in Europe?] (In Russ.). Institute of Europe RAS. Analytical paper No. 15. Available at: http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2020/an198.pdf DOI: 10.15211/analytics152020
- 6. Oskolkov P.V., Tevdoy-Burmuli A.I. 2018. Evropeyskiy pravyy populizm i natsionalizm: k voprosu o sootnoshenii funktsionala [European right-wing populism and nationalism: revisiting the correlation of features] (In Russ.). Bulletin of Perm University. Political Sciense, No. 3., p. 19-33. DOI: 10.17072/2218-1067-2018-3-19-33
- 7. Pechatnov V.O. 2017. Fenomen Trampa i amerikanskaya demokratiya [The Trump Phenomenon and American Democracy] (In Russ.). International Trends. No. 1, p. 13 – 34. DOI: 10.17994/IT.2017.15.1.48.3
- 8. Pechatnov V.O. 2020. SShA v tiskakh krizisov [America Gripped by Crises] (in Russ.). Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, No. 10, p. 5-16. DOI: 10.20542/0131-2227-2020-64-10-5-16
- 9. Pechatnov V.O., Pechatnov V.V. 2018. Menyayushchiysya religioznyy landshaft Ameriki [America’s Changing Religious Landscape] (In Russ.). Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. No. 9, p. 48 -59. DOI: 10.20542/0131-2227-2018-62-9-48-59
- 10. Pechatnov V.V. 2017. Traditsionnye tsennosti i ikh protivniki [Traditional values and their opponents] (In Russ.). Rossiya XXI, No. 1., p. 24-45.
- 11. Samuilov S.M. 2020. Antiglobalizm D. Trampa i podkhody «mozgovykh tsentrov» SShA [Anti-globalism of D. Trump and Approaches of U.S. Brain Trusts] (In Russ.). USA & Canada: economics, politics, culture.; No.3, p. 25-43. DOI: 10.31857/S268667300008592-1
- 12. Shaparov A., Sin'kova E. 2020. Demarginalizatsiia pravogo radikalizma v evropeiskom politicheskom protsesse [The Resurgence of the Radical Right in European Policy]. Sovremennaya Evropa, No. 5, p. 182-192. DOI: 10.15211/soveurope52020182192